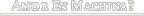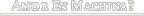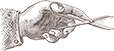Что за лестница, какая лестница!
По этой бы по лестнице шуршать бальным платьем, блестеть перстнями на белых перчатках, спускаться к буфету, опираясь на руку блестящего кавалера...
А я спускаюсь по беломраморной лестнице Купеческого собрания в сером сестринском платье, и в руках у меня белье, которое надо отнести кастелянше.
И все равно белая с золотом лестница дает минутный отдых глазу, уставшему видеть кровь и страдания. Зеркала мимоходом отражают меня, он им не отразить моего внутреннего видения...
С начала войны это крыло Купеческого собрания было отдано под военный госпиталь, белая лестница утратила свое парадное достоинство и приучилась терпеливо сносить пробитые пулями шинели и скромные форменные платья.
На последней площадке застыл человек. Офицер с рукой на перевязи. Я обращаю на него внимание только потому, что он прекратил свое движение вверх и неподвижно застыл на площадке. Это явление привлекает мое внимание, и, спускаясь, я невольно рассматриваю его.
Какие-то знакомые черты начинают смутно тревожить и беспокоить, и я тоже замедляю шаг.
Сначала мне кажется, что мне никогда не вспомнить это едва знакомое лицо, но воспоминание подступает все ближе.. и вот ослепляет как вспышка.
... Беззаботное довоенное время, легкое и все пропитанное парижскими духами. Вокзал и последние пять минут до отхода поезда.
Нарядная публика смеется и прощается под звуки оркестра.
Неожиданно ко мне бросается молодой человек с букетом в руке.
- Это вы Черубина? - с волнением спрашивает он.
Я даже не могу поначалу понять его вопрос, и только ясно читаемое волнение заставляет меня вдуматься в его смысл.
Черубина - это стало быть, имя. Женское от Керубино, х. е. рувима, но ведь как банально!
- Это вы называли себя Черубиной де Габриак? - настойчиво повторяет он, пока я раздумываю.
Я смотрю в его глаза и вижу радостное волнение и узнавание, вижу и то, как ему хочется чтобы это я вдруг и оказалась этой самой Черубиной, и что Черубину эту он так вот и себе и представлял. А ведь поезд отойдет через пять минут, и никакой Черубины ему уже не найти.
А я..
А я уезжаю, очень надолго, на год, на два, и мне вдруг хочется чтобы мой образ вот так и остался, запечатлелся в его памяти этой загадочной Черубиной.
Неожиданно для себя я киваю головой, я киваю этим дрожащим пармским фиалкам, его нервному волнению, обещающей музыке оркестра.
Очень нехорошо, скажите вы?
А ведь всего несколько лет, как Блок очаровал всех своими стихами, и все женщины были Незнакомки, а все мужчины были в поисках Незнакомки.
Я вижу, как выражение лица меняется на безумно счастливое, он хватает меня за руки, говорит что-то, чего я уже не понимаю, мне надо проходить в вагон, фиалки оказываются у меня в руках, он бежит следом, еще что-то долго кричит - не то обещает, не то просит, но все это сливается в одну суматоху встречи-расставания, и я бросаю ему цветок из букета и его силуэт на перроне запечатлевается последним воспоминанием о довоенной России.
Я тогда еще не слышала, что за история получилась с Черубиной де Габриак, а когда вернулась, то до меня дошли уже только слабые отголоски слухов.
И сейчас здесь, на этой белой лестнице, я снова увидела те же глаза, вспомнила, как зарывалась лицом в дрожащие мохнатенькие фиалки.
Мне приходится покрепче схватиться за перила. Неожиданно подкашивает слабость в ногах. Я же не могла предположить тогда, что моя шутка настигнет меня когда-нибудь..
Раненный офицер в несколько прыжков преодолевает разделявшее нас расстояние.
Его рука накрывает мою руку, судорожно вцепившуюся в перила.
- Это вы? - и это почти то же радостное волнение, только опаленное войной и приглушенное посуровевшим за войну сердцем.
- Черубина...